
Два дня еще, два дня и я вернусь. По всем скучаю. По некоторым в особенности

***
кролик пушистохвост, привет! Давайте знакомиться?





 Angel Draco, Bertha Harker, [L]Грэйв[/L], [L]Кукла_с_человеческим_лицом[/L], [Ловчий]
Angel Draco, Bertha Harker, [L]Грэйв[/L], [L]Кукла_с_человеческим_лицом[/L], [Ловчий] осторожно, под катом трупы.
осторожно, под катом трупы. 

Гробовщик  | Профессор Снейп 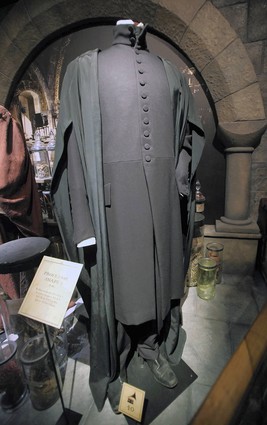 |
![[info]](http://static.diary.ru/images/openid/livejournal.gif) b_a_n_s_h_e_e известен многим. А еще существует
b_a_n_s_h_e_e известен многим. А еще существует ![[info]](http://static.diary.ru/images/openid/livejournal.gif) marinni. Очень рекомендую заглянуть. Вот, например, сюда или сюда.
marinni. Очень рекомендую заглянуть. Вот, например, сюда или сюда. если у вас медленный интернет или слабый комп - запаситесь терпением. посты огромные и грузятся меееедленно.
если у вас медленный интернет или слабый комп - запаситесь терпением. посты огромные и грузятся меееедленно.






